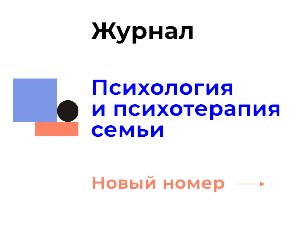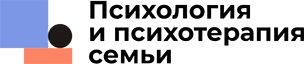Москвичев: Тему мы заявили широко, «нарративная практика в работе с семьями подростков». На каждое из этих слов можно отдельный семинар провести. Я попробую за час уложиться с основным сообщением, а потом отвечу на вопросы, потому что за час я все не расскажу, и, надеюсь, будут какие-то вопросы.
Начну с того, что чуть подробнее расскажу о себе, почему я говорю на эти темы. С детьми я работаю с 1992 года, а в 2002 году я вошел в команду центра «Перекресток», который специализируется на подростковой тематике, на социальной и психологической помощи подросткам и семьям в самых разных трудных ситуациях. В команде «Перекрестка» моя работа сконцентрировалась на подростковом возрасте. Для меня это очень важная школа, потому что команда была профессиональная, и мы работали в разных ситуациях: когда подростков направляли из школ, из Комиссий по делам несовершеннолетних, мы работали с судом, с подростками, которые совершили преступления. В начале своей деятельности «Перекресток» специализировался на помощи подросткам и их родителям, встретившимся с проблемой химической зависимости, употребления алкоголя и других психоактивных веществ. Моя тема в этом большом направлении всегда была семья.
С семьями я чуть пораньше встретился, когда работал в приюте. Возникла идея, что можно начать работать с детьми до того, как они попали в приют. А где они были до того, как оказались в приюте или на улице? В большинстве своем в семье. Мои первый опыты социальной работы с семьями воспитанников, с выходом в семьи, организацией социального сопровождения, начались в 1997 году. С этого момента мы с коллегами искали разные возможности, как организовать эту работу. Кто какой подготовкой в команде обладал – тот это и применял в работе с семьями. Гештальт-терапия, клиент-центрированный подход, психодрама. Я сам в какой-то момент встретился с семейной терапией, и привнес много идей из системной терапии, потому что в работе с семьями недостаточно только индивидуальной перспективы, очень важно видеть ситуацию, которая складывается вокруг подростка.
Была еще одна специфика, которая создавала определенную сложность: большинство наших клиентов, и семьи и подростки, были недобровольными, или клиентами по направлению. И если с подростками – недобровольными клиентами у нас хватало много разных форм работы: мы выходили на улицы и вступали в контакт с подростками, приглашали их в клуб, вовлекали в сотрудничество, - то с семьями оказывалось сложнее. Когда мы приходим в семью по направлению комиссии, на территорию семьи – это очень специфическая ситуация. Мало какая семья хочет открывать дверь специалисту. Вы можете поставить себя на место семьи. У каждого в семье есть что посмотреть, а если у вас есть дети, уверяю вас, органы опеки могут найти много интересного. Поэтому, понятно, нас ждали не с распростертыми объятьями. И вот как войти и быть полезным семье – это был для нас важный вопрос. Даже системная семейная перспектива не всегда помогала нам найти ответ. С позиции системной терапии семьи, с которыми мы встречались, рассматривались как дисфункциональные, с нарушенными границами, иерархией и прочее. Органы опеки это описывали как неблагополучные или асоциальные семьи. Если мы приходим с такими взглядами в семью, даже если мы не говорим об этом, то наш контакт сразу становится затруднен. Обсуждая на консилиуме семью, мы начинаем использовать такие определения, и это влияет на наш взгляд на семью, на наш контакт. Мне очень понравилась идея, которую высказал кто-то из нарративных практиков: как бы вы отнеслись к ситуации, если бы обнаружили, что во время вашего профессионального обсуждения члены семьи случайно услышали бы, что мы обсуждаем, говорим о них? Было бы неудобно или нормально? На том этапе мне было бы неудобно.
Похожая ситуация возникла в практике семейного терапевта Тома Андерсена, и в результате возникла идея нового метода: рефлексивной команды. Команда терапевтов сидела за односторонним зеркалом, а терапевт после работы с семьей вышел обсуждать с командой завершающее предписание для семьи. Так получилось, что семья стала свидетелем обсуждения, которое происходило в команде терапевтов. Сначала они ужаснулись, начали вспоминать что там наговорили, но семье это обсуждение оказалось очень интересно. Эта практика стала развиваться, и рефлексивная команда стала применяться специально: сначала терапевт беседует с семьей, а команда находится в позиции наблюдателей за зеркалом, после чего они меняются местами и рефлексивная команда обсуждает то, что увидела в семье. А после этого терапевт возвращается в семью и с семьей обсуждает, что из сказанного показалось семье интересным. Эту практику, нарративная терапия стала развивать как один из предпочитаемых вариантов работы с семьей и с людьми. В нарративной терапии это получило название «практика внешних свидетелей».
Именно в этот период своей работы я встретился с нарративной терапией. Мне показалось, что этот подход может быть очень полезен, отвечает и моим собственным установкам, и ситуации семей, с которыми мы встречались. В этой позиции было уважения по отношению к семье, к семейной истории, и к представлениям членов семьи о ситуации, уважение к их опыту и попыткам решить проблемы и изменить свою жизнь. Отказ от суждений о какой-либо норме и дисфункции открывал пространство для настоящего партнерства. Если раньше мы приходили в семью и «знали», что она дисфункциональная, нарушены границы, сдвинутая иерархия, но не говорили об этом, потому что если мы скажем об этом, то мы выйдем из нее и больше не встретимся. Поэтому, чтобы установить партнерские отношения и наладить контакт, чтоб быть полезными, мы так думали, но не говорили об этом. В такой ситуации сложно говорить о доверии.
Нарративная практика предлагает вовсе отказаться от суждений с позиции нормальности/ненормальности, что позволяет входить семью с совершенно другой позицией. И сотрудничество складывается значительно легче. Мы обращаемся к опыту и ценностям семьи, нам не нужно скрывать свои предположения. Не только нарративная практика, а вообще постмодернистский контекст, в котором родился и нарративный подход, а также терапия, ориентированная на решение, коллаборативный подход Лин Хофман и Харлин Андерсон, подвергают сомнению универсальные нормы и придают ценность опыту людей, которым мы помогаем. Я встретился с нарративной практикой на курсе по семейной системной терапии, который проходил в Институте групповой и семейной терапии. В программе было два семинара посвящено нарративной терапии. Мне сразу показалось, что это то, что нам нужно.
У меня есть предположение, что многие из вас знают что-то о нарративной терапии, проходили вводный семинар, что-то читали. Поднимите руки кто, знает о нарративной практике?
Половина. Ну ладно.
Одна из сложностей развития у нас нарративной терапии заключается в том, что на русский язык переведено очень мало литературы. Есть три с половиной книжки. Одна из них достаточно доступна, это книга Джилл Фридман и Джина Кобмс, американских нарративных терапевтов. В русском варианте она называется «Конструирование иных реальностей». Не очень удачный перевод, на мой взгляд. Она вышла тогда, когда иные реальности, наверно, били популярны, что-то магическое в них откликалось. В английском варианте она называется очень прямолинейно: "Социальное конструирование предпочитаемой реальности", почти калька с названия книги Бергера и Лукмана "Социальное конструирование реальности", в которой они представляют социальный конструкционизм. Только тут добавляется слово «предпочитаемой». Эта книжка периодически переиздается издательством «Класс». Вторая книжка пока недоступна и не известно получится ли ее переиздать, возникли сложности с правообладателем. Это книжка Майкла Уайта, одного из основателей нарративной терапии, которая называется «Карты нарративной практики». Ее тираж 3000 экземпляров, который уже закончился и переиздания пока нет. В сети можно найти главы из нее. И есть совсем смешной тираж замечательной книжки "Нарративная медиация" Уинслэйд и Монк, издано 500 экземпляров. И половинку я бы отнес к книжке «Нарративные решения в краткосрочной терапии", поскольку про методы там говорится, но в основе лежит стратегический подход, а не нарративное мировоззрение.
А теперь перейдем к краткому представлению нарративной метафоры и нарративной терапии. Если что-то непонятно поднимайте руки, и я буду останавливаться подробней.
Ничего удивительного, что нарративная терапия возникала в контексте семейной терапии. Почему неудивительно? Потому что семейная терапия сделала большие шаги от индивидуальной парадигмы рассмотрения проблемы к учету социального контекста. Проблема стала рассматриваться не как индивидуальная, а как возникающая в процессе взаимодействия в семье. Важный фокус системной терапии был в том, что тяжесть проблем снята с индивида, он стал обозначаться как «идентифицированный пациент», тот, кого семья «предъявляет», назначает в качестве проблемного, носителя симптома. Системный терапевт смотрел на систему и искал какие взаимодействия вносят вклад в эту проблему, кто какое участие в ней принимает, как симптом помогает семье поддерживать равновесие.
Во времена учебы Майкла Уайта все социальные работники обучались системной терапии, и Уайт был в этом контексте. Первые идеи, которые вдохновляли его, были идеи Грегори Бейтсона, о значении различий, о важности контекста, о паттернах поведения, задающих контекст и определяющих смысл, придаваемый событиям. Уайт был очень вдохновлен в начале своей практики этими идеями. Его особо привлекало, что Бейтсон обращал внимание на временную перспективу, в которой разворачиваются изменения.
Уайт тоже рассматривал, как происходит взаимодействие семьи вокруг симптома, только он сместил фокус. Тогда многие системные терапевты задавались вопросом - зачем проблема нужна семье и как проблема помогает поддерживать семейный гомеостаз. Уайт свое предпочтение сформулировал по-другому: «Как семья отвечает на проблему?» Возможно неадекватно, неэффективно, но пробует с проблемой справиться. Какую систему образует семья, пытаясь реагировать на вызовы проблемы, ее влияния? По большому счету, это было такое предисловие к тому, что потом было названо «экстернализация» - отделение проблемы от семьи.
Нарративная практика пошла дальше в направлении расширения горизонтов рассмотрения проблемы. Она вышла за пределы семейной системы, посмотрев на те влияния, которые общество, сообщества, культурные институты, политика вносят в проблему. Более того, нарративная практика совсем отказалась рассматривать проблему, как находящуюся внутри людей или семей, обозначая ее место в социальном икультурном контексте. Высказывание: «Проблема не в человеке, проблема в проблеме», - стало девизом нарративной практики.
Важен контекст этого шага. Системная семейная терапия стала доминирующим направлением, по крайней мере, наиболее динамично развивающимся направлением в 60-70 году. Интересно это описывает Минухин в предисловии к книжке Николаса и Шварца «Семейная терапия. Теории и методы». Он описывает семейных терапевтов как революционеров, ниспровергателей авторитетов, но потом сам выступает с этой позиции авторитета, рефлексирует по поводу постмодернистских методов, говорит, что не стоит отказываться от универсальных понятий в погоне за поиском различий и уникальностей, что нарративные идеи несут эту опасность. Есть в сети небольшое видео, где Майкл Уайт и Сальвадор Минухин ведут диалог, просто обмениваются репликами. Очень хотелось бы посмотреть его целиком. Минухин и Майкл Уайт постоянно вели заочную дискуссию, когда Минухин подвергал сомнению неэкспертную позицию, которую нарративная практика декларирует, сравнивая стиль работы Майкла Уайта с работой овчарки, когда он своими вопросами «гонит клиента в предпочитаемые истории». Уайт с ним, конечно, не соглашался, и обозначил предпочитаемую позицию нарративного практика как «децентрированную, но влиятельную». В центре находятся истории клиента, но терапевт активно влияет, чтобы преимущество получала не проблемная, а предпочитаемая клиентом история.
В 80-е годы стала активно звучать критика системного подхода, и она шла с самых разных сторон. Это интересно еще и потому, что у нас эти стороны не практически не представлены.
Одна из сторон - это феминизм. У нас феминизм является ругательным словом не только от мужчин по отношению к женщине, но и не менее часто от женщин по отношению к женщинам. Даже в дне 8 марта этот контекст за годы социализма практически ушел. У нас считалось, что женщины свою борьбу выиграли, поэтому не стоит об этом говорить. В общем, феминистский контекст не представлен у нас, но там он представлен очень ярко. И основная претензия, которую феминисты предъявляли семейной терапии, что та семья, которая описана в системной терапии это патриархальная, гетеросексуальная семья белого европейца/североамерканца среднего класса. Вообще, сомнения вызывает, что такая семья была в России. Об этот Анна Яковлевна хорошо написала, специфику нашей российской семьи, которая никогда не была такой традиционной, которую сейчас поборники традиционных ценностей пытаются восстановить. Критика феминизма была активна, а у Майкла Уайта она была совсем рядом, жена Уайта - Шэрил Уайт, - была активистка феминистского движения. Они познакомились в Австралии на антивоенных выступлениях, против войны во Вьетнаме. Шэрил Уайт продолжает развивать нарративную практику будучи со основателем и директором «Далвич-центра».
Другая сторона, от которой звучала критика, вносившая изменения в системную семейную терапию - это социальная работа, которая также очень активно развивалась и в Европе, и в США, и в Австралии. Не лишним будет отметить, что огромное количество семейных терапевтов были социальными работниками по базовому образованию. Вирджиния Сатир, Стив де Шейзер, который основал подход, ориентированный на решение, Майкл Уайт – все они были социальными работниками. В чем же состояла критика со стороны социальной работы? Например, социальный работник в США приходил в семью. Семья латиноамериканская или афроамериканская. Где там был мужчина? Обычно сидел. Кто главный в семье? Скорее всего, мама. Мужскую роль часто выполнял старший сын. Если социальный работник мыслил в системном подходе, то сразу видел сплошную дисфункцию и предлагал исправить эту дисфункцию. Исправить ее семья не могла, потому что та традиция, которая сложилась не только семейная, и связана не только с латиноамериканским происхождением, но и с проблемами мигрантов в США, и уже не одно поколение так жило. Старшие сыновья тоже знают, что скоро сядут, когда станут взрослее и попадут под уголовное преследование. При этом социальному работнику надо было сказать «перестаньте совершать преступления, перестаньте садиться в тюрьму, сколько можно. И еще вам неплохо было бы чтоб вы выстроить правильную иерархию в семье».
Приведу пример уже из нашего контекста. Мы приходим в семью, которая живет в коммунальной квартире, в одной комнате вчетвером. Девочка подросток стала уходить из дома. Можно задать вопрос: «Почему ты уходишь из дома?» Но мне кажется очевидным почему, когда в комнате четыре койки и совсем нет личного пространства. У меня вопрос: «Как вы друг друга не поубивали?» Они как-то знают, как не убивать друг друга, живя вчетвером в одной комнате. А я не знаю. Единственное, что я могу сделать – это проявить уважение к тому, что, несмотря на все сложности, которые свалились на эту семью, они ищут решение. Иногда девочка ночует дома, не всегда они ругаются, иногда они находят совместные занятия, находят, как поддержать друг друга. У меня вопросы, как они это делают? В какие моменты это возникает? Бывают ли моменты, когда девочка не уходит и когда это бывает? Это другой тип вопросов, которые помогают семье обратиться к некоторым уникальным эпизодам, на которых можно что-то строить. Эта позиция, предлагавшая смотреть на семью с точки зрания некоторой универсальной структуры, нормы, не давала социальным работникам инструментов, особенно в малоресурсных семьях, которые не принадлежат к среднему классу.
И третья сторона критики, которая была актуальная там, у нас неактуальна до сих пор – это ЛГБТ-сообщество: геи, лесбиянки, бисексуалы, трансгендеры. Они также подвергали критике доминирование патриархального дискурса, но, кроме того, обращали внимание на дискриминацию по признаку сексуальной ориентации. Традиционная системная терапия рассматривает семью как гетеросексуальный союз, в котором закреплено гендерное распределение ролей.
Очень любопытно Фридман и Комбс в книге о нарративной работе с парами, пишут, почему интересно работать с ЛГБТ-семьями. У них нет готовых решений. Когда гетеросексуальная пара образуется, каждый вносит некоторые готовые решения, которые набраны их семьями. Когда образуется гомосексуальная пара, людям приходиться принимать решения как они будут распределять роли, какие будут договоренности, кто какие обязанности будет выполнять, у них нет готовых решений. Я - мужчина и он – мужчина, кто будет мыть посуду? Тот, кто самый женственный или тот, кто меньше боится воды? В любом случае, им приходится договариваться. И то, как они строят отношения, Фридман обозначает как интересную перспективу, которая дает большой ресурс не только в работе с гомосексуальными, но и гетеросексуальными семьями.
Параллельно с критикой, получали развитие идеи постмодернизма в философии и культуре, социального конструкционизма в психологии. Сочетание критики и новых идей привело к возникновению новых ответов в пространстве консультирования и психотерапии. Один из ответов был ориентированный на решение подход, который не отказывался от системной идеи. Он остался в русле системной метафоры, но предложил другие ориентиры: рассматривать не проблему и симптомы, а возможности и решения, работать не с прошлым, а с будущим. Ориентированные на решение терапевты любят говорить о своей практике, что это просто, но не легко. Рассказать об ориентированном на решение подходе можно за пять минут, но работать в нем нелегко. Основная идея – не надо говорить о проблеме, надо говорить о решении и рассматривать систему в контексте решения. Очень красиво. На мой взгляд, нарративная практика и ориентированный на решение подход, пересекается между собой. На международных конференциях многие терапевты признаются, что комбинируют эти подходы. Но сами Уайт и Стив де Шейзер с этим не согласились бы, правда сами они уже не могут об этому сказать, они оба ушли из жизни. Они достаточно резко обозначали различия этих практик. Я не буду вдаваться в эти особенности.
Нарративная практика стала еще одним ответом. Она возникла и стала развиваться как результат сотрудничества новозеландского семейного терапевта Дэвида Эпстона и социального работника из Австралии Майкла Уайта. Они встретились на Австралийской конференций по семейной терапии в Мельбурне, в 1980 году. Уайт был в этот момент не просто социальным работником, он был главным редактором журнала «Семейная терапия Австралии и Новой Зеландии». Увидев аннотацию Эпстона к его воркшопу на конференции, Уайт очень заинтересовался идеями Эпстона. Интерес оказался взаимным. Они начали обсуждать идеи друг друга, и появилось много разных пространств. С подачи Дэвида Эпстона они обратились к другим метафорам, за пределами системной терапии, во многом реагируя на ту критику и недовольство, которые звучали в адрес семейной терапии.
Майкл Уайт и Дэвид Эпстон стали искать альтернативу самой метафоре системы. Метафора системы приглашает нас рассматривать семью по аналогии с организмом или механизмом. Обращая внимание на целостность семьи, эта метафора рассматривает людей как части системы, и возникает опасность потери их индивидуальности. Метафора системы, открывая новые возможности благодаря выходу за рамки индивидуальной перспективы, одновременно упускала другие важные моменты, сводя действия людей к обеспечению функционирования семейной системы. Уайт и Эпстон решили искать другие метафоры. Возможно, в этом помогло базовое образование Дэвида Эпстона по антропологии, откуда он черпал много идей. Интерес к культурной антропологии был и у Майкла Уайта. Возможно, такая широта взгляда помогла им найти метафору истории.
Эту метафору они нашли в работах когнитивного психолога Джерома Брунера. Условно рождением нарративной терапии можно считать момент выхода в 1991 году книги Уайта и Эпстона, которая называлась «Нарративные средства достижения терапевтической цели». Первое издание вышло в 1989 под названием "Литературные средства достижения терапевтических целей". К этому моменту уже была идея экстернализации, идея отношенческой идентичности, привлечения аудитории в процесс терапии. Но еще не было нарративного подхода и нарративной метафоры.
Взяв метафору истории, Уайт и Эпстон предложили описывать жизнь человека, как историю о жизни человека. История о жизни человека не одна. Есть множество разных историй, которые человек проживает. Есть, например, профессиональная, как мы стали психологами. Если бы в 18 лет меня спросили об этой истории моей жизни, я бы не смог ее предсказать, потому что я не собирался становится психологом, я был уверен что стану инженером. А сейчас я могу продлить эту историю чуть ли не до детского сада. Моя мама говорила, что я всегда был очень «эмоциональным мальчиком». Кто бы мог догадаться об этом, когда я служил на флоте! Я теперь могу внести в историю, как я сочувствовал животным, переживал, когда обижали других детей, сочувствовал героям мультфильмов. А вот в историю службы на флоте я б это не внес.
Разные события мы вносим в разные истории. А иногда одно и то же событие может присутствовать в контексте разных историй, но при этом его смысл может существенно меняться от истории к истории. А некоторые события могут не попасть ни в одну историю, просто в жизни человека для них нет подходящей истории, их некуда вписать. Об этом же говорит Бейтсон: человек обращает внимание не на сами события, а на различия. Любые различия. Было холодно - стало жарко, человек заметил, а если бы постоянно было бы жарко, никто не замечает, что жарко. Вот вы приехали на Бали: «Вау, как жарко, как влажно, ужас!», а поживете там два месяца и уже не жарко и даже прохладно, а снова заметите, что там было влажно, когда приедете в Москву и скажете: «Ой, как сухо!». Соответственно, там, где нет различий или различия незначимы для выживания организма, Бейтсон считает, что человек может не заметить такие события. Эти события для него не существуют. Майкл Уайт эту традицию продолжил.
Собственно, что такое история? История — это события, объединённые между собой во времени в соответствии с определённым сюжетом. Есть разные события, их много. Человек не мыслит свою жизнь через события. Если вас спросят «расскажите о себе» вы не станете перечислять события: когда родился и где учился. Это можно представить только в резюме, и то в плохом. Даже когда я читаю резюме, у меня все равно возникает история, а если человек мыслит о себе или рассказывает, он складывает это в историю. Как он стал психологом, какой путь был к этому, как он стал семейным консультантом, как его занесло в семейную терапию – это все истории.
События объединяются не просто так, они, во-первых, как-то разворачиваются во времени. Хотя разворачивание событий может быть нелинейным, цикличным. История может «петлять» во времени. Может меняться субъективный смысл событий. Они объединяются определенным сюжетом, например, определенный сюжет тот самый путь нарративного практика. Или история о том, как сложилась моя семья.
Но истории не индивидуальны, даже личные истории включают в себя социальный и культурный контекст. Это истории, которые не только я рассказываю про себя, но и которые рассказывают другие обо мне. Я, например, не помню себя до трех лет, после трёх тоже не очень хорошо, но многие события, которые со мной происходили, я знаю. Они являются для меня значимыми. Я знаю, что я родился ночью и иногда я думаю - почему я так поздно ложусь ночью? Потому что я родился в два часа ночи. Это событие приобрело некое значение в контексте тех историй, которые рассказывала мне мама. Они играют роль. Поэтому эти события для меня существуют. Для меня могут существовать те события, о которых я сам не помню, но эти события кто-то рассказал. Поэтому это истории, которые рассказываю я о себе, и другие рассказывают обо мне, и эти истории постоянно обновляются.
Если мы попадем в новый контекст, сильно отличающийся от того, в котором мы были, то очень быстро может сложиться новая история, другие события из прошлого приобретут значение, поменяются главные соавторы. Я – студент авиационного института, у меня было много друзей, чувствовал себя интеллектуалом, увлекался философией и попал служить в военно-морской флот, и там все это стало не важно. Там я стал неудачником и неумелым, который даже не может отличить ключ на 10 от ключа на 14, не может разобрать помпу. И это история совсем другая и очень быстро в этой истории можно оказаться очень неуспешным. Тоже самое происходит в разных сообществах. Этот процесс может происходить не только спонтанно, но и очень организованно, и в разных направлениях.
Многие истории значительно шире, чем просто «я и мои друзья». Есть большие, социальные истории, например – история женщины или мужчины. Все знают какой должна быть «настоящая женщина». Нормальная женщина должна нормально готовить, нормально выглядеть, в наше время неплохо было бы, чтоб она хорошо работала, сделала карьеру и конечно сто процентов времени проводила со своим ребенком, если он появится и, конечно, не меньше внимания уделяла своему мужу.
Существует история и о «нормальном мужчине». «Мужчина не плачет, мужчина огорчается», как говорится, например, в фильме «В бой идут одни старики». История говорит о том, каким должен быть мужчина - суровым, сдерживать эмоции, а только когда эмоции переполняют – тогда можно их выразить, но уже по-настоящему! Лучше выразить с помощью алкоголя, потому что тогда уже можно, тогда ты уже не причем, не можешь их сдержать. Но нужно много алкоголя, если мало выпил и проявил эмоцию, значит еще не настоящий мужчина. И понятно, что мужчина-психолог не попадает в историю нормального мужчины. Проявлять чувства и говорить о них, вообще говорить много – это не по-мужски. Таким образом, все психологи-мужчины попадают в ситуацию необходимости пересмотра своей идентичности. Какую историю я рассматриваю как свою? В какой истории я себя чувствую лучше? Но не только я, но и окружающие меня люди выражают свои представления о соответствии меня тем или иным историям, и о том, какие истории мне лучше подойдут.
Так могут появляться проблемные истории, когда есть некая история в обществе, которая доминирует, но я в нее не попадаю. Эта история начинает на меня давить, и я начинаю думать о том, что со мной что-то не так. Почему все могут, а я не могу, почему все мужчины легко берут и это делают, а я нет? Почему всем женщинам удаётся совмещать готовку, уборку и мужа, а я какая-то не такая?
Существует множество историй, которые вносят в нас ощущение собственной проблемности. Нарративная практика говорит о том, что наша жизнь и есть история, включающая и представление о себе. Продолжая эту метафору, мы можем сказать, что проблема – тоже история. В силу разных обстоятельств, в жизни людей может возникать, развиваться и приобретать доминирующий характер проблемно-насыщенная история о них. Наверно, у всех людей в жизни периодически возникают проблемные истории, но не все с этой историей сразу к терапевту идут. К терапевту идут тогда, когда проблемно-насыщенная история приобретает доминирующий характер, влияет на разные стороны жизни, на представление о себе. Эти истории возникают в культурном, социальном, экономическом и политическом контексте. Учет этого контекста позволяет по-другому рассматривать проблемную историю, находить другие возможности для изменения отношений с проблемой, дает больше пространства для реализации авторской позиции человека по отношению к своей жизни. Отделяя проблему от человека, мы рассматриваем ее в пространстве культуры, политики, социальных взаимодействий. Это позволяет человеку занять позицию по отношению к проблеме и ее влияниям на свою жизнь.
Важно отметить, что экстернализация – это вынесения проблемы из человека, но не помещение ее в другого человека. Часто воспринимают эту идею таким образом: конечно же я отделил проблему от себя, это не моя проблема — это проблема моей жены. Она меня контролирует, потому что у нее проблема с контролем. Это не экстернализация, это интернализация в жену. Проблема выносится, отделяется вообще от человека, и тогда появляется возможность задать вопросы про представленность проблемы в его жизни, про ее влияние на разные стороны жизни.
Метафора нарратива открыла новые пространства, к которым можно обратиться, включить в поле терапии. В частности, Майкл Уайт встретился с трудами Мишеля Фуко. Они с Дэвидом Эпстоном дополняли друг друга. Говорят, Эпстон читал множество книг по одному разу, а Уайт немного книг, но много раз. Фуко стал следующим за Бейтсоном, которого Уайт много раз читал. Его привлекло в контексте метафоры нарратива то, как Мишель Фуко разбирает идею знания и власти. Как знание в виде дискурсов начинает приобретать власть.
Много рассказывать про Фуко не буду, если захотите – почитайте Уайта, как он об этом пишет, что проще, или самого Фуко, что интересней, но сложнее.
Основная идея, которую берет Уайт у Фуко, о том, как за последние триста лет возникла и укрепилась современная власть, отличная от традиционной. Традиционная власть больше апеллирует к идеям подавления, кто-то кого-то подавляет. Муж жену, терапевт клиента, учитель ученика или государство гражданское общество. Это подавление явное, с использованием полиции, армии, силы. Мишель Фуко обращает внимание на другие проявления власти, на современную власть, которые находятся в тени традиционной, и потому часто бывают невидимы. Власть-знание, когда специалисты вводят некоторое понятие норм, которые принимаются людьми и начинают действовать как на самих людей, так и на других через механизм нормирующих суждений.
Например, когда каждый из нас знает, что значит быть нормальным мужчиной или нормальной женщиной, нормальным родителем, нормальным терапевтом. Это знание может приобретать статус «само-собой-разумеющегося», оно отрывается от контекста, и мы начинаем нормировать самих себя и друг друга в соответствии с ним. Можно услышать на детской площадке: «Какая она мать, она совсем не следит за ребёнком» или «Как одет ребенок?», «Почему мальчик везет розовую колясочку?». Сами люди становятся и субъектами, и объектами современной власти и ее почти невозможно ниспровергнуть, потому что она не находится где-то, она находится в каждом из нас, подкрепляется авторитетом науки, исследованиями, выполненными по всем канонам, и претендующим на открытие объективного знания. С позиции же социального конструкционизма, и нарративная практика разделяет эту позицию, психологические, социальные исследования никогда не бывают нейтральны.
В качестве примера я могу сослаться на одну из запомнившихся мне презентаций на психологической конференции. В ней исследователь рассказывал о том, как связано воспитание девочки одной матерью и самооценка. По всем параметрам выходило, что самооценка плоха, и представление о будущем у девочек не важное. В целом, много проблем возникает из того, что девочка воспитывается мамой одна. Я задал два вопроса: учитывался ли материальный контекст, материальное положение семей с одной матерью? Оказалось, что нет. И второй вопрос был - учитывался ли контекст отношений между родителями? Ведь отцы то у девочек где-то есть. И это не было учтено. Но при этом коэффициент корреляции был представлен.
Нарративная практика задавала бы такие вопросы еще на этапе разработки исследования: Как данное исследование может повлиять на матерей воспитывающих дочерей в одиночку? На дочерей, которые воспитываются в семьях? На общество, которое выносит суждение о матерях? и т.д. Кому оно дает преимущество, кого лишает преимущества? Это вопросы, которые задала бы не только нарративная практика, но и критическая социальная работа. Если отвечать на эти вопросы, можно увидеть, что в данном случае исследователь, скорее всего невольно, возлагает на матерей ответственность за потерю семьи, ответственность за неправильное воспитание дочки. А также задает идею о том, что описанные последствия объективны, неизбежны в ситуации воспитания дочери одной матерью. Но если бы в нашем обществе женщина имела бы поддержку от государства, например, на уровне Австралии, то, возможно, исследование имело бы другой результат.
Такие эффекты психологических исследований часто остаются незамеченными, если нет внимания к контексту, озвученному в вопросах выше, о том, кому данные знания дают преимущества, а кого лишают. Те же вопросы можно задать психиатрии. Нарративная практика не отказывается от того, что есть особенности органические, психологические. Но вопрос о том, как влияет в конкретной стране диагноз «шизофрения» на самого человека, на родственников, на социальные перспективы, на возможности реализации человека? Какой вклад сам факт диагноза может вносить? Как работает стигматизация? Эти вопросы часто остаются за рамками нашего внимания. И условно объективный исследователь задает вопрос: «А причем тут я? Я просто объективно провел исследования, и так получилось. Я не отвечаю за последствия. Моя этика – занимать нейтральную позицию» - говорит классический психолог-исследователь, и к ним присоединяются многие психиатры, терапевты. Нарративные и постмодернистские терапевты говорят: «Извините, нейтральность невозможна никогда». Если вы не обращаете внимание на экономический контекст и работаете в школе и видите что кто-то подвергается травле, то вы можете сделать неверное суждение и закрепить существующее положение. Занимая нейтральную позицию, вы начинаете поддерживать сложившуюся ситуацию, существующую систему власти. Это контекст, который, мне кажется важным, чтоб обратить внимание на теоретические основания нарративной терапии. В этом контексте становится более понятно, что значит экстернализация, и как проблемы существуют в социальном, культурном, политическом контекстах.
Обратимся теперь к теме подростков, помня о том, что мы живем в контексте истории, что доминирующие истории влияют на нас, и неплохо было бы их учитывать. Какие истории о подростковом возрасте существуют в нашем обществе? Ну, например, какие слова ассоциируются со словом «подростковый возраст»?
-Переходный, трудный, кризисный…
Идею кризисности подросткового возраста активно развивали наши отечественные психологи, хотя, в первой половине ХХ века это была очень распространенная идея во всей западной культуре. Но с позиций нашей классической психологии, большая часть подросткового возраста, как и любого другого – это литический (стабильный) период, а кризисный период — это небольшой переходный этап, когда происходит смена ведущей деятельности, изменение социальной ситуации развития. Но идея кризисности легко распространилась на весь подростковый возраст. Да, он переходный, но все возраста переходные. Сейчас у меня переход от молодости к старости, можно назвать его кризисом среднего возраста.
Подростковый возраст трудный. А почему трудный? Потому что подросток это уже достаточно взрослое существо. Если бы трехлетний ребенок стал размером с подростка, те трудности, с которыми встретились бы родители, были бы не меньше.
Очень любопытно обращаться к тому контексту, в котором появились эти идеи, истории о подростковом возрасте. Так как нарративная практика, благодаря Эпстону, много обращается к идеям культурной антропологии, то продолжая традицию, обратимся к классической для факультета психологии МГУ работе, которую нам предлагали в качестве монографии. Это работа Маргарет Мид «Взросление на Самоа», где она пишет, что вообще-то на Самоа подросткового кризиса нет. И тогда, возможно, подростковый кризис – это то, что появляется в контексте американской культуры, что он нужен ей для становления человека, принадлежащего американской культуре? Нужно, чтоб подросток, проявив кризисность, стал способным отстаивать индивидуальную позицию, стал автономным членом конкурентного американского общества?
Эти идеи во многом были взяты отечественной психологией, но наш контекст существенно отличался и от американского, и от западноевропейского. То, что развивается в подростковом возрасте, оказывается не всегда востребовано в нашем контексте. Как эти идеи могут нам помочь, когда мы встречаемся с подростком? Очень любопытно задать ему вопросы о том, в каком контексте он живет, что для него значимо, откуда взялась идея о том, что нормально для подростка? У многих подростков есть идея, что у них кризис подросткового возраста, что они должны быть не понимаемы, они должны иметь друзей, мнение которых должно стать более значимым, чем мнение родителей, что они должны выделяться из массы, даже если этого не хочется. Может, хочется чего-то другого, но надо быть в тренде. Кому-то из подростков хочется иметь интимные отношения, а кому-то еще нет, но они должны быть. Даже если у тебя их нет, нужно рассказывать всем, что они у тебя есть. Для девочек и для мальчиков подросткового возраста это несколько разные истории. Если для мальчиков это больше победы, проявления активной роли, для девочки это получение признания своей привлекательности. И для обоих – интимные отношения являются признаком взрослости. Но это культурно-заданные истории, что именно таким подросток должен быть, чтоб получить то или иное признание. Это не придуманный подростком способ.
Очень важно обращать внимание, что подростки живут в мире насыщенном историями. Очень ярко можно увидеть это на примере проблемы употребления подростком психоактивных веществ. Вы можете назвать хоть одного подростка, который сам придумал алкоголь или никотин и догадался как их использовать? Нет. Все подростки взяли эти культурные образцы, которые очень активно распространяются через самые разные каналы. Как можно лучше всего подростка включить в эти истории? Сообщить о том, что ему еще рано употреблять алкоголь или табак. Будешь взрослым – тогда будешь употреблять. Подростковый возраст очень задается историей, что задача подростка – стать настоящим взрослым. И тут такой волшебный рецепт: «Начну употреблять алкоголь и стану взрослым!» Эта история может сильно влиять на подростка. Сюда же можно добавить истории о том, как психоактивные вещества помогают радоваться, горевать, расслабляться, общаться и много еще других. Когда мы начинаем рассматривать историю употребления как проблемную историю, возникающую в культурном контексте, появляются другие возможности для обсуждения этой темы с подростком и родителями.
Экстернализующая беседа позволяет отделить проблему употребления от человека, но в то же время, приглашает и подростка и родителей к принятию ответственности за последствия уптребления. Обычно не подростки заявляют тему: «У меня проблема, я употребляю пиво». Скорее родители заявляют: «У нас проблема, наш сын пришел, и от него сильно пахло алкоголем!». Я могу расспросить родителей, в чем их беспокойство, почему это их так волнует? Как употребление сыном алкоголя влияет на них, на их отношения с сыном, на их представление о его будущем? Чего они бояться потерять, если история употребления продолжиться? В этой беседе можно затронуть и отношение родителей к употреблению алкоголя в их собственной жизни.
После того, когда обозначен контекст беспокойства родителей, я могу перейти к расспрашиванию самого подростка. Правда, иногда я сразу спрашиваю подростка, как он думает, в связи с чем он оказался на консультации? И если подросток говорит об озабоченности родителями его употреблением, я могу начать расспрашивание с него.
Я могу спросить, беспокоит ли самого подростка употребление пива? В каком контексте происходит употребление, в компании, перед какими-то событиями, или, наоборот, после? Как подросток познакомился с употреблением, как узнал об этой возможности? Почему не начал употреблять раньше и почему не употребляет чаще? Конечно, мое расспрашивание будет зависеть от ситуации, от степени свободы подростка в отношениях с родителями, его готовности обсуждать эту тему при них. Ведь мои вопросы могу провоцировать подростка на ложь, поскольку правдивые ответу могут иметь для него негативные последствия. Поэтому здесь важно проявлять внимание к тому, что уже обсуждается, и что подросток и родители готовы начать обсуждать.
Первая часть экстернализующей беседы о том, как проблема присутствует в контексте? Это не обвинение в употреблении алкоголя, не постановка диагноза «подростковый алкоголизм», не запугивание последствиями. Для подростка это слишком абстрактные темы, о которых всегда говорят взрослые и которые не имеют к нему отношения. Если я начинаю его спрашивать про то, как в его жизнь вошел алкоголь или курение, может возникнуть очень личный разговор.
Например, в лагере я вел группу «Для думающих, курить или не курить». В подростковом лагере всегда возникает проблема курения, особенно ближе к завершению лагеря, потому что у всех сигареты заканчиваются, и курящеи подростки начинают страдать, стрелять сигареты друг у друга и т.д. Самое время для обсуждения проблемы! Но когда я предложил подросткам прийти на группу «Как бросить курить», - никто не пришел, кроме одного мальчика, который и так не курил. Когда же я предложил группу «Для думающих: курить или не курить?», - был аншлаг. Мы начали рассказывать истории, кто как начинал курить, как попробовал в первый раз, как менялись ощущения, почему курит сейчас. Истории разные, но у всех общие пересечения. Дальше мы стали обсуждать с какими последствиями курения каждый из нас встречался, и как это влияло на нашу жизнь. И оказалось, что большинство подростков за свой относительно небольшой срок курения уже успело встретиться с неприятными последствиями: это и неприятные ощущения когда хочется курить, а нельзя, и трудности в отношениях с родителями и другими взрослыми. А еще, многие подростки говорили о свое намерении бросить курить, но не сейчас, а чуть позже. Я не предлагал им бросать, тема отказа от курения была принесена самими подростками.
Вернемся к разговору с семей подростка об употреблении пива. В следующей части разговора, после того как поговорили о присутствии проблемы, мы можем спросить о ее влиянии: как употребление пива влияет на тебя, твои отношения, представления о себе, планы на будущее?
Могут встречаться самые разные ответы: «Я становлюсь веселее, а иногда не веселее», «Утром голова сильно болела», «Я когда выпью становлюсь дурной», «Это помогает поговорить, но вообще часто разговоры получаются глупыми». «Бывает я попадаю в ситуации, в которые не хотел бы попасть», «Это приносит проблемы с родителями, с соседями», «Кто-то со мной стал ближе, а кто-то перестал общаться». Вот некоторые эффекты употребления алкоголя, которые называют подростки.
В следующей части можно спросить – «Как тебе эти эффекты, как ты к этому относишься? Вроде как это родители заговорили о употреблении алкоголя, но, как ты относишься к влияниям алкоголя на твою жизнь?» Если я сразу спрашу: «Ну и как ты относишься к тому, что ты пьешь», ответ, скорее всего будет формальный: или «Да нормально, все пьют», или «Это, конечно, плохо». Если же мы поговорили об эффектах, о каждом эффекте в отдельности, может проявиться другая позиция, более личная.
- Ну и как тебе, что вот это состояние возникает?
- Ну если немного то нормально, иногда бывает весело, хорошо. Хорошо, что не теряю контроль.
- А почему для тебя важно не терять контроль?
- Потому что мне важно, чтоб я мог сохранять самообладание, не вести себя как дурак.
- Правильно я слышу, что тебе важно сохранять самообладание, контролировать свои действия?
Мы переходим к обсуждению ценностей подростка. А когда подросток говорит о своем отношении к эффекту употребления, он в этот момент принимает ответственность за свои действия, за свое употребление или неупотребление.
- Ну да, родители на меня стали кричать когда я пришел, - это один из эффектов.
- А как тебе то, что родители на тебя кричат?
- Ну как. Понятно, как. Да они всегда кричат...
- Но, тем не менее, тебе хотелось бы чтоб кричали больше или меньше? – я могу спросить более детально как он относится к этому эффекту. Я не встречал еще ни одного подростка, которому нравилось, чтоб на него кричали.
- Но на самом деле хотелось бы по-другому.
В этот момент подросток принимает на себя ответственность за те отношения, которые ему бы хотелось иметь с родителями, и за то, как употребление алкоголя на них влияет.
- Мне хотелось бы, чтоб родители относились ко мне как-то по-другому.
- Как бы тебе хотелось?
- С уважением.
- Тебе важно уважение?
Начав с темы Алкоголя, мы переходим к ценностям, которые важны подростку. Я спросить: «А какие моменты уважения все-таки присутствуют в твоей семье?» Если человек говорит об уважении – значит, у него есть такой опыт, и он знает, о чем говорит. Как говорит Бейтсон про различия – если бы всегда была одинаковая степень неуважения, подросток не смог бы различить, где у него уважение и неуважение. Раз есть обида на неуважение – значит, есть опыт уважения, с которым он сравнивает.
«Бывали ли эти моменты…» - это один вариант, который можно развить и войти в другую историю, которая не проблемная, а предпочитаемая.
Интересно спросить, про отношения Алкоголя и Уважения, содействует ли употребление пива отношениям уважения или нет? Т.е. я предлагаю подростку определить свою позицию через экстернализующий тип обсуждения истории. И оказывается, что подросток действительно принимает ответственность за свои действия.
Когда в начале родители сообщили о проблеме ответственность несли они, пытаясь контролировать поведение подростка. Ответственность подростка была не попадаться, чтоб его «не спалили». Когда происходит этот разговор, у нас возникает возможность посмотреть на эффекты употребления, на цели и ценности подростка и соотнести их с употреблением пива. В этот момент происходит принятие подростком ответственности за свое употребление или неупотребление, за те эффекты, которые оно приносит.
Важно, что родители в этот момент слышат наш разговор. В начале разговора с подростком я прошу родителей перейти в позицию свидетелей, чтоб они не включались и не дополняли своими уточнениями, сомнениями той истории, которую рассказывает подросток. Я приглашаю их в специальную позицию слушателя, может, даже, дружелюбного слушателя. «Если бы вы слушали эту историю, но это была бы история не вашего сына, а другого подростка, к которому вы хорошо относитесь, но это не ваш сын?». Многие родители гораздо спокойнее и конструктивней относятся к другим подросткам. Как хорошо родители могут говорить с другими подростками! Протрясающее. Встречают родители сына в компании друзей, и что-то говорят им, такое шутливое, например. И друзья говорят: «Слушай, какие у тебя классные родоки!». «Ага, - говорит он, - вы просто с ними не жили…» Но, значит, у них все же есть эта способность! Просто они не проявляют ее по отношению к своему подростку. И тут они слышат, что для их сына тоже важно уважение, хорошие отношения с ними. Они могут увидеть сына по-другому. Могут услышать то, что раньше было не слышно.
После я могу перейти к ним, и спросить их отклик на эту историю, как они относятся к уважению? Хоте ли бы, чтобы уважение больше присутствовало в их семье? В результате такого перекрестного обсуждения возникает новая линия, очень тонкая, но другая, альтернативная история, которая тоже имеет свои события. Эти события еще не связаны между собой, возможно, даже нет ее названия. Кстати, к слову, о появлении названия, я могу спросить: «Как бы вы назвали отношение, которое вы бы хотели»?
- Ну, это отношение такого партнерства с ребенком, или какого-то сотрудничества.
- Правильно я слышу, что вы хотели бы, чтобы такое отношение присутствовало больше в вашей жизни?
Мы дали этому название и в этом моменту у родителей и у подростка появилась возможность искать новые события исходя из названия. Это не придумывание событий — это возможность выбирать, искать их через новую призму. Выбрав эти события, связав их, настроив эту связь, посмотрев, какими они были в этих событиях, мы укрепляем альтернативную историю.
Я посмотрел на время и понял, что надо завершить. Наверно, главные идеи я успел высказать. Но я бы еще обозначил несколько моментов, которые важны в нарративной практике.
Первый момент, я хочу обратить ваше внимание, что в представлении нарративной практики и сама идентичность человека тоже является историей. Но не просто историей, а коллективной историей. Идентичность – не внутренняя структура, а то, что рождается в переговорах, в процессе обсуждения, отношений. Очень интересная метафора в нарративной практике, представление об идентичности как о жизненном клубе. Наша идентичность — это люди, которые внесли в нас вклад, которых мы включили в свой жизненный клуб, выдали клубную карту. Некоторые вошли в него без нашего участия, в силу своего положения в нашей жизни: родные, учителя в школе, некоторые соседи. Но членство в клубе можно пересмотреть, кого-то можно отдалить, исключить, кого-то временно лишить карты, кого-то наоборот приблизить, повысить его статус. Эта метафора часто оказывается полезной.
И второй момент – это идея сообществ. Внимание к сообществам очень важно для нарративной практики и для контекста работы с подростками. Важный контекст подростковой жизни – это люди, которые их окружают, мнение которых становятся значимым. Можно здесь обратится к идее Выготского о развитии высших психических функций. Высшие психические функции появляются вначале как социальное взаимодействие между людьми, а потом становятся внутренними. Уайт в конце жизни открыл для себя Выготского и пересмотрел всю свою практику. Последняя глава в его «Картах нарративной практики» посвящена пересмотру своей практики через призму идей Выготского. С точки зрения подросткового возраста очень важно задаться вопросом - какую ситуацию, какой социальный контекст мы можем предложить подростку для того, чтоб помочь ему развить, например, ответственность. В школе часто считается, что лучший способ развития ответственности — это жестко контролировать и рассказывать ему об ответственности. В результате ответственность не возникает, зато все школьники могут рассказать, что такое ответственность. Для Выготского и нарративной практики значимый вопрос – какое взаимодействие можно организовать, и какие сообщества создать для того, чтоб в этом сообществе возникла ценность ответственности, какие взаимодействия между людьми приведут к рождению ответственности?
Мне важно обозначить еще один момент, касающийся, помощи подросткам в кризисных ситуациях: направленых из комиссии по делам несовершеннолетних, или через суд, ситуациями, связанными с административными нарушениями или преступлениями подростков, уходами из дома, употреблением психоактивных веществ.
Нарративная практика, снимая стигму и обвинение с подростка, открывает большое пространство, в котором и у подростка, и у родителей появляется возможность занять позицию по отношению к проблеме и поддерживающим ее идеям. Но в этом пространстве есть и наше место, наша доля ответственности, и как представителей общества, и как специалистов, играющих важную роль в функционировании современной власти. На европейской конференции по нарративной терапии несколько лет назад была очень значимая презентация, Сара Уолтер рассказывала о своей работе с подростком. Девочку направили к ней в связи с пропусками школы, такое традиционное обращение. Направили как к школьному психологу, чтоб она помогла девочке справиться с проблемой, исправить свое поведение. В разговоре Сара очень быстро узнала, что маме этой девочки задержали зарплату и она не могла заплатить деньги за школьные завтраки, но она не могла и рассказать об этом. Девочка и так чувствовала себя изгоем, потому что одежда ее не соответствовала тому, как одевались другие девочки. Рассказав, она рисковала еще больше стать объектом насмешек и она предпочла просто не ходить в школу пока не появятся деньги. Можно было бы избрать индивидуальную работу психолога с девочкой, работать с ее неуверенностью, закомплексованностью, раскрепощать ее. Можно было работать с семьей и посмотреть, что за такой дисфункциональный паттерн в семье, что мама не может принять ответственность за ситуацию и поговорить с учителем, или девочка не делится с ней своими переживаниями. Но Сара Уолтер на конференции сказала, что все это было бы нечестно, если мы не обозначим настоящую проблему, которая существует в этой ситуации. Проблему Бедности. И мы как терапевты должны это понимать, признавать и выносить на обсуждение. Нарративная практика допускает обсуждение и включение других людей, не только семьи, но и учителей, которые собирают деньги, представителей класса, подруг, которые могут поддержать девочку, значимых людей из расширенной семьи. Возможно, соседей. Терапевт, с разрешения девочки, мог бы пригласить их в кабинет и обсудить в том числе и эту проблему, и возможности ответа на нее, возможности поддержки сообщества, чтоб они могли откликнуться на историю девочки и дать признание ее ценностям и смыслам. Это выход за границы традиционного терапевтического контекста обсуждаемых тем, и традиционного терапевтического куга людей, которые могут быть включены в терапию. Мне кажется, это очень значимо и полезно для работы с большим кругом проблем, с которыми сложно работать в других подходах.
А еще мне очень импонирует, как нарративная практика критикует другие традиционные подходы, например, системную семейную терапию. Они начинают критику с признания их вклада в помощь людям, их эффективности для многих ситуаций. Именно поэтому они получили такое распространение. Но есть некоторые пробелы и лакуны, белые пятна, темы, которые оказываются незамеченными. Есть ситуации, в которых универсальные обобщения не работают, когда установленные нормы вносят вклад в проблему и лишают людей ощущения авторства в собственной жизни.
Нарративная практика обращает внимание именно на эти пробелы, помогаю людям, группам, сообществам, часто попадающим в ситуации маргинализации, которые ускользают от внимания традиционных подходов. И в этих случаях нарративный подход оказывается эффективным: там, где раньше терапевты встречались с сопротивлением, строятся отношения сотрудничества, обращение внимания к социальному контексту проблемы позволяет увидеть и новые стороны проблемы, и в то же время, новый возможности для помощи. Новые возможности, идеи, возникнув в контексте нарративной практики, приходят в классическую системную терапию, и она меняется под их влиянием. Та системная терапия, которая есть сейчас, очень непохожа на ту системную терапию, которая была в 60-70 годы и, наверно, никто из терапевтов всерьез не скажет: «Я эксперт по вашей семье, и я скажу, как она должна измениться, чтобы функционировать правильно». Все терапевты будут помнить о том, что необходимо строить партнерство. Правда, этому может помешать классическое психологическое образование, получив которое очень хочется занять экспертную позицию.
Вопросы.
На этом я сказал все что я хотел сказать, теперь можно задать ваши вопросы.
- Меня зовут Кирилл, я нарративный практик и очень интересно послушать привычное и знакомое из непривычных уст. Я только заканчиваю обучение, и я работаю в социальном центре, как раз с родителями и детьми. Буквально три недели. И у меня сразу встал вопрос, насколько мне может быть достаточно нарративной практики, когда у людей есть вопросы про то, какой режим дня для ребенка с таких-то лет, а как организовывать вот это или это для ребенка. Нарративная практика идет исключительно от опыта людей, но тем не менее часто востребована экспертная позиция. У меня есть идея о том, что мне не хватает некоторых экспертных знаний. Насколько для вас сочетаются знания директивные и недирективные.
- Я очень не хотел бы предложить нарративную практику как панацею и единственно знание, освоив которое можно ничего не изучать, не знакомиться с другими подходами. Для меня важно, что нарративную практику осваивают люди, которые находятся в некотором контексте, обладают опытом. Например, специалист работает с детьми с аутическими расстройствами, и знает об аутизме много чего. Какие-то методы, которым он обучился работают, но где-то их не хватает, и он начинает искать. И здеь он может встретиться с возможностями, которые предлагает нарративная практика. И если он находит эти возможности полезными, согласующимися с его интенциями, мировоззрением, он может на новой основе пересмотреть уже имеющийся у него опыт, методы помощи, обратив внимание на их эффекты. Я могу быть полезным, задавая нарративные вопросы, но если я буду задавать вопросы не зная ничего об аутизме, особенностях его проявления, особенностях, которые демонстрируют дети, сложностях, с которыми встречаются родители, и т.д., я могу не задать нужные вопросы, просто не увидеть, где их задать. Очень важен контекст, важны знания, и в то же время, понимание его ограничений, опасности его универсализации и необоснованных обобщений. Постмодернизм не имеет смысла без модернизма.
Если нам нечего будет критиковать в системной терапии, нам трудно будет определить и собственную позицию. Позиция занимается по отношению к чему-то другому, и часто достаточно близкому. Меня как-то пригласили в Омск, к социальным работникам. Я, естественно, хотел рассказать об ориентированном на решение подходе, нарративной практике, потому что эти идеи очень полезны для контекста социальной работы. Но когда я задал вопросы про опыт специалистов, я понял, что люди не знают, что о генограмме, не знают, что такое семейная система. И мне пришлось рассказывать о системном подходе, о семье, о том, какие были направления в семейной терапии. На все постмодернистские подходы у меня осталось 15 минут. Но я не вижу другого варианта, мне кажется, что профессиональный социальный работник, чтобы осознанно занимать позицию нарративного практика, должен быть знаком с контекстом.
Другое дело, если вы не собираетесь работать терапевтом, быть профессионалом, может быть не нужно осваивать все пространство психотерапии, достаточно некоторых подходов, конкретных практик. Группы самопомощи они могут быть основаны только на нарративной практике. Это очень экологичный метод, который можно, по моему мнению, даже использовать в семье для помощи друг другу. Например, мы с женой активно используем нарративные практики для расспрашивания о предпочитаемых историях.
Пользуясь случаем скажу, что мы регулярно, весной и осенью, проводим в Москве конференции по нарративной терапии и работе с сообществами. если вы просто в фейсбуке наберете «нарративная практика, то вы найдете сообщество «нарративная практика». Там постоянно появляются сообщения о конференциях и других событиях. Также есть сайт Сообщество «Нарративная практика».
- Я получила знания о нарративной терапии из рук Екатерины Дайчик, она очень успешно в этой парадигме работает, и она предлагала ее как вариант для работы с ограничивающими убеждениями, мы выносим туда экстернализацию, и вот все клюют это. Я сама попробовала и у меня на первом клиенте так получилось. Я столкнулась с женщиной 60 лет с наболевшими проблемами, и я никак не могла это вытащить, а она боялась говорить. Я сказала ей: «Давайте устроим театр вот там входит некто, тут Галина вот что она делает?» То есть я вот так вынесла проблему. Эффект был потрясающий. Может вы еще какие-то моменты порекомендуете, где стоит включать нарративку в процессе консультирования.
В.М.: Я вижу нарративную практику и экстернализующий способ ведения беседы не как техники. Это такой взгляд на мир, убеждение, которое мы приняли, что проблема не находится внутри людей. Я всегда обсуждаю проблему, отделяя ее от людей. Очень важный контекст, на который я бы хотел обратить внимание. Часто экстернализацию используют в психодраме или гештальт-теарпии как способ – давайте поговорим про проблему, как будто она отдельна от вас. Это делается для того, чтобы было удобней ее рассматривать, это может не быть взглядом на человека. Потом измененная проблема может возвращаться человеку, и это описывается как принятие ответственности за свою жизнь. Нарративная практика не просто отделяет проблему от человека в качестве технического приема. Она ее размещает проблему в социальном, культурном, политическом и экономическом контексте. Она помогает посмотреть, какие идеи, социальные и культурные практики, делают жизнь человека проблемной.
- Это адаптация что ли? Способ включить адаптивные механизмы?
В.М.: Включить активность человека в реагировании на проблему. Когда человек отделяет себя от проблем и видит их не как свои особенности, а как представленные во вне, он может на это влияние реагировать по-другому. Может занять активную позицию по отношению к этому, занять позицию по отношению к влияниям проблемы на свою жизнь и искать свои возможности влияния на проблему.
- Как бы раздваиваете проблему? Субъект и объект.
В.М.: Это, скорее, взгляд на жизнь человека как полиисторическую, включающую множество историй. Даже в травматической ситуации, даже люди, которые перенесли насилие, не оставались пассивными объектами травматического воздействия. Даже в этот момент они что-то думали, что-то делали. И, отделяя проблему от человека, мы помогаем ему увидеть свою активность. Это очень важная составляющая. В нашей культуре сучествует множество практик интернализации проблем в людей, описания людей как проблемных. Нарративный подход противостоит этому.
-Т.е. с травматиками тоже так можно работать, отделив то, что с ним произошло от него самого?
В.М.: Сейчас нарративная практика так активно развивается, что люди из самых разных областей, познакомившись с ее возможностями, находят ее применение в своей сфере. Травмы, пищевые расстройства — это вообще классика в нарративной терапии. В травме, насилии очень часто присутствует социальный контекст. А для того, чтобы человек мог противостоять ее эффектам, мы помоаем найти опору в другой истории, параллельной травме, например, истории выживания, сопротивления.
Для проблемы булимии и анорексии - это одна из самых эффективных практик, которая совершила переворот в этой теме, увидев анорексию, как социальную проблему, не как отношения между матерью и дочерью, не как нарушение, индивидуальное психическое отклонение, а именно как социальную проблему подверженности женщин идеи определённого образа идеального тела.
- Тоже вопрос. У меня есть клиентка, она, говоря о том, что у нее сложные отношения и она хочет выйти из них последние 3 года. У нее есть опыт работы с консультантом больше 60 сессии. В течение трех лет разных вариантов. Насколько нужно и как можно использовать эту ее историю работы с другими консультантами. У нас не принято разговаривать про то, что, где и как.
В.М.: Почему? Спросить, что было полезно в работе с другими помогающими специалстами, что помогало, чего не хватило? Это же очень большой опыт и этот опыт, возможно, был в чем-то полезен. Но, возможно, в процессе этой работы она встретилась с какими-то важными для себя ценностями, которым этот опыт мог нести угрозу, и защищала их, а со стороны консультанта это может выглядеть как сопротивление. Этот опыт тоже можно обсуждать.
-Просто переходить в контекст ценностей? Мне показалось, что это сложно.
В.М.: Нарративная практика хороша тем, что дает много разных вариантов и ходов к ценностям. Есть разные идеи. Например, идея «отсутствующего, но подразумеваемого». Если мы говорим об отчаянии – мы говорим о том, на фоне чего это отчаяние имеет смысл. Отчаяние имеет смысл на фоне какой-то веры, которая была значима. Если мы говорим о готовности человека сдаться – мы можем сделать предположение о предыдущей, возможно, неоконченной борьбе. Если мы слышим жалобу, мы можем включить «двойное слушание», услышать что-то, что есть за этим. Нарративная практика помогает «затачивать слух», в том числе – через внимание к языку. Отсутствующее, но подразумеваемое – это не то, что отсутствует, но мне хочется привнести. Важно услышать, на фоне чего жалоба человека приобретает смысл, что есть, но не проговорено.
- Еще маленький вопросик. Проблемная история трансформируется по ходу беседы. Надо ли возвращаться в проблемную историю?
В.М.: Здесь важно слушать клиента. Ориентированный на решение подход отказывается обсуждать проблемную историю. Но не моя задача проталкивать его в предпочитаемую историю. Мне важно слышать человека. Если человек возвращается к проблемной истории – значит у него есть ощущение что что-то важное не услышали, что-то важное не сказано. Проблемная история всегда имеет контекст, что я в этой проблемной истории как-то выжил, как-то справлялся с ней. Не каждый бы прошел через эту проблемную историю. В социальной работе это очень ценно, что поблемы приносят не только боль, но и опыт.
-Обычно проблема продолжает в человеке жить. Это не прошло, а человек сохраняет себя живым в этих обстоятельствах.
-В.М.: Проблемная история часто бывает плотной и насыщенной. Она приобрела доминирующий характер в жизни человека. Когда появляется предпочитаемая история – она очень тонкая. Как нам насытить предпочитаемую историю отношениями, новыми контекстами, новым опытом - это очень важный вопрос. Мы наметили предпочитаемую историю, а проблемная история нашла способ как ее снова сместить. Мы можем посмотреть, как и где это удалось, а где нет. Как нам удалось эффективно ответить на влияния проблемы, а в каких моментах не нашлось опыта или ресурсов. Это открывает возможности для новых поисков.
___________________________
В.М.: Мне очень нравится одна из идей работы с потерей. Нарративные практики очень часто подвергают сомнению какие-то укрепившиеся традиции. В традиции роботы с опытом потери, наиболее распространенная идея о том, что нужно расстаться, сказать «прощай», и продолжить жить. Такой доминирующий вариант. А нарративная практика говорит, что это необязательно. Можно снова сказать «Здравствуй!» Например, у кого-то ушел из жизни значимый близкий человек. Почему мы должны вычеркнуть его из своей жизни? Он может остаться в качестве члена нашего жизненного клуба и помогать нам идти по жизни. Вот такая идея.
-Спасибо за идею. Я сегодня работала с клиенткой, у нее умер отец-алкоголик, и она его вычеркнула из жизни. А я сказала ей, что вы должны его принять, что он был, он был таким. Но нужно принять, чтоб опереться.
-Не могу сказать: «Вы должны принять». Человек лучше может чувствовать, какой опыт ему полезен, а какой нет. Но нет одной истории, например, что отец только плох или только хорош. Мы возвращаемся к идее поли-историчности. Я могу спросить: «Что бы вы хотели вычеркнуть? А есть ли что-то, что вы хотели бы сохранить?» Задать вопросы, дать человеку самому принять решение об изменении членства в его жизненном клубе. Возможно, нельзя совсем вычеркнуть отца, но можно изменить его статус, принять одни его вклады, и не принять другие. Но я и не могу сказать: «Он твой отец, поэтому ты должна была терпеть и принимать его в любом случае».
-Там девушка взяла на себя функцию отца и над братьями, и над матерью, потому что его не было.
-Существует много историй, о том, как люди ощущали свою несостоятельность, познакомившись с некоторыми психологическими теориями, например, представление о парентификации, когда ребенок принимает на себя роль родителя и теряет детство. Нарративная практика может помочь человеку пересмотреть этот взгляд на себя, обратиться к важным для него ценностям и смыслам, которые подверглись трудному испытанию, и способностям, которые человек смог развить в ответ на влияние проблемы.
- Спасибо!